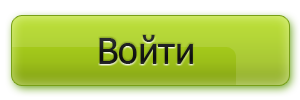Иногда повседневная практика уроков литературы ставит перед учителем вопросы научного или теоретического характера. И вырастают они из, казалось бы, простейших, часто повторяющихся проблемных ситуаций или практических затруднений, возникающих в процессе учебной деятельности. Так, например, изучение творчества О.Мандельштама в школе практически всегда сопряжено с затрудненностью понимания смысла его стихов.
А ведь Осип Эмильевич Мандельштам — одно из уникальных по красоте, глубине и сложности явлений русской литературы.
В современных учебниках литературы его принято считать акмеистом, однако литературные критики разных периодов относили его к различным направлениям русской поэзии серебряного века.
Символист В.Брюсов1 называл его акмеистом. Акмеист Н.Гумилев2 – символистом, М.Розенцвейг3 – неоклассиком, формалист В.Жирмунский4 – неоромантиком, Б.Бухштаб5 – формалистом (по использованию классических поэтических приемов), Н.Степанов6 определил его как стилиста, а некоторые усилили это определение до стилизатора – «воспевателя античности»7.
Его называли футуристом (на основании близости к группе «Галлея»)8, а также «насквозь буржуазным поэтом» (А.Манфред)9.
В современных исследованиях Мандельштама рассматривают как психологического поэта, как поэта, связующего французскую и русскую поэзию начала ХХ века (В.Топоров10), как мыслителя, предвосхитившего философские взгляды на человека М.Хайдеггера (С.Аверинцев11) и т.д.
Поэтому, конечно, учителю-словеснику бывает трудно объяснить место и значение творчества О. Мандельштама в истории русской литературы.
В особенности вся эта разноголосица мнений имеет отношение к раннему периоду творчества Мандельштама – творчеству 1908–1925гг., которое, включает в себя три цикла стихов:
“Камень” – 1908 — 1915 г.г.,
“Tristia” – 1915 (16) — 1920(21),
Стихи 1921- 1925 годов.
Однако главную проблему изучения мандельштамовских стихов современные учащихся одиннадцатых классов формулируют так же, как еще в 1923 году ее определил критик Бобров12 в своей рецензии на «Tristia»: «…каждая строка <…> ничего общего не имела ни с последующей, ни с предыдущей…». Как мы видим, вопрос о смысле и содержании стихов О.Мандельштама был поставлен довольно давно.
Объективно и мы должны согласиться с тем, что в его стихах часто отсутствует ясно сформулированная сюжетная линия (пусть даже в логике лирического рода литературы), а внутренний мир героя прерывен и представлен фрагментарно. Словно отдельные стеклышки общей мозаики, заключенные в композиционную раму циклов. Все это не создает в восприятии юного читателя отчетливого портрета лирического героя и не помогает сформулировать темы авторских размышлений.
Но одновременно из всего вышесказанного следует, что за учебной проблемой детского непонимания возникает вполне научный вопрос об особенностях поэтики раннего О.Мандельштама.
Поэтика есть художественный мир автора, соединение его внутреннего опыта о человеке и мире с их образно-эмоциональной оценкой через язык и мышление. При этом язык, выражая мыслительные процессы, сам преобразуется в речь. Поэтому каждое стихотворение может быть признано речевым высказыванием, в котором через образно-логические средства выражается сформировавшееся суждение. А значит, каждое стихотворение можно признать дискурсом, с точки зрения логики и психологии. Особенности же литературного творчества представляют нам авторский опыт, эмоцию, мышление, язык и речевое высказывание в виде художественных текстов. Современное языкознание определяет текст как последовательность знаковых единиц, объединенную смысловой связью. Основными свойствами текста называют:
1) целостность;
2) «сочетание внешней связанности и внутренней осмысленности»;
3) а также «возможность своевременного восприятия»13.
Те же самые базовые характеристики включены и в лингвистическое определение дискурса.
То есть те самые свойства, которые в стихах О.Мандельштама, как казалось критику Боброву и кажется современным школьникам, теряются. Можем ли мы при этом сказать, что мандельштамовские стихи как текст и речевое высказывание перестают существовать? Особенно если учесть, что действительное отсутствие «вещественно-логических» связей между строками и строфами в ранней лирике О.Мандельштама убедительно показал Б.Бухштаб в статье «Поэзия Мандельштама» (1929г.). Так из литературоведческого вопроса об особенностях поэтики раннего О.Мандельштама вырастает вопрос философско-семиотический: всегда ли дискурс предстает перед нами как высказывание или связный текст, в котором сформировавшаяся мысль проявляет свою жизненную (ситуативную и коммуникативную) направленность. Всегда ли стремление быть понятым означает «возможность своевременного восприятия» через наиболее убедительные и доступные средства языка? Не существуют ли ситуации, когда смысл высказывания, отражающий дискурсивное движение мысли, и сама связность текста выражаются исключительно через логику его лингвистических, а не вещественно-смысловых элементов? И, главное, как научиться понимать такие мысли?
Чтобы ответить на вопросы и понять смысл стихотворения, необходимо провести лингвистический анализ мандельштамовских стихов. Но поскольку такой анализ, как правило, оказывается довольно громоздким, то мы остановимся на одном, небольшом по объему, стихотворении. Заметим также, что такой анализ поможет выяснить и индивидуальные особенности мандельштамовского мышления, что, несомненно, создаст условия для разговора о художественной исключительности его стихов. А чисто практические соображения позволят учителю функционально задействовать программные знания по русскому языку.
(((
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева,
Глубокой тишины лесной.
1908 г
Это первое стихотворение академического 2-х томного издания под редакцией П.Нерлера. Его содержание, как правило, вызывает у неискушенного читателя удивление и недоумение. Оно состоит всего лишь из одного предложения. Причем все члены предложения, кроме подлежащего “звук”, имеют определительные (атрибутивные) значения:
Звук (какой?) осторожный и глухой
/звук (какой?) плода/
Плода (какого?), сорвавшегося с древа,
Среди немолчного (какого?) напева
/напева (какого?) тишины/
Глубокой (какой?) тишины (какой?) лесной.
Определительность поддерживается и морфологическим уровнем: в предложении 6 прилагательных и 5 существительных, а глаголов и вовсе нет. А нет глаголов – нет движения, нет процесса, а это значит, что тема стихотворения описательная, характеризующая явление. А явление – это звук. И вот тут-то начинаются странности. Звук оказывается «осторожным», но «сорвавшимся», «глухим», но «среди немолчного напева», а этот напев — «напев глубокой тишины». И где же «объединенная смысловой связью последовательность языковых единиц» с возможностью «своевременного восприятия»? Однако когда мы читаем стихотворение, мы ясно ощущаем и связность, и цельность. На это обязательное ощущение связности обращал внимание и Б.Бухштаб: «…впечатление логической стройности и связности стихов Мандельштама несомненно, и, если оно иллюзорно, — иллюзия, во всяком случае, создается неизменно»14.
Позволим себе не согласиться с последней частью этого замечания. Если читатели мандельштамовских стихов уже в течение трех поколений ощущают логическую связность и стройность его стихов, значит, все это присутствует в стихотворении. Но Б.Бухштаб справедливо считал, что «показать непосредственным смысловым (курсив наш – И.М.) анализом эту иллюзорность «вещественно-логических» связей у Мандельштама – крайне трудно»15. Поэтому искать ее следует не на образном или содержательном, а на лингвистическом уровне.
Синтаксис рождает ощущение связности подчеркнуто повторяющейся атрибутивностью. Морфология через прилагательные и существительные, подкрепляющая синтаксический уровень, добавляет цельности и устойчивости всей конструкции предложения.
Но как же тогда парадоксальные сочетания значений в лексике?! Значит, они не случайны. Не случайны хотя бы потому, что построены на двух началах — логическом и эмоциональном. Эмоциональное связано с нестыкующимися по смыслу словами, а логическое основано на противопоставлении звука и тишины. А если мы теперь внимательнее присмотримся к синтаксическому уровню, то увидим, что, эмоциональное и логическое существует и внутри синтаксических отношений и проявляется в полисемии синтаксических значений.
Эмоциональная несвязность проявляется в вариантах синтаксической функции “среди напева”. Этот член предложения может определяться как обстоятельство, указывающее на пространство, из которого выделяется этот звук (звук – Где? – «среди напева»), и также как несогласованное определение (звук – Какой? – «среди напева»).
Она также поддерживается ослаблением синтаксических связей, что усиливает лексическуюнесоединенность слов. Например, то же «среди напева» может присоединиться к разным членам предложения, не теряя смысла:
— звук (Где?, Какой?) «среди напева»;
— «плода, сорвавшегося с древа» (Где? или даже Когда?) «среди напева».
То есть перед нами налицо подчеркнутая свобода и несвязанность не только в лексике, но и в смысловых отношениях между членами предложения.
Логическое же противопоставление на синтаксическом уровне связано с вариантами интерпретации главных членов, которые приведут к совершенно разным характеристикам стихотворения.
Например, необособленные полные прилагательные, находящиеся в позиции после подлежащего, могут считаться сказуемыми: «звук осторожный и глухой». В этом случае уже в первой строке мы имеем двусоставную грамматическую основу с четко выраженной характеристикой темы (звука), и все остальные второстепенные члены, расположенные в следующих строчках, перестают быть важными участниками стихотворения.
Но, с другой стороны, под контекстуальным атрибутивным влиянием всех остальных согласованных и несогласованных определений и данные прилагательные не менее убедительно могут рассматриваться как определения. В этой ситуации наше стихотворение превращается в односоставное номинативное предложение, где подлежащее обозначает явление (тему). А все остальные члены предложения рассматривают ее свойства и признаки: характеристику («осторожный и глухой»), происхождение («плода, сорвавшегося с древа»), среду существования («среди немолчного напева»). А это уже целая история о герое-образе.
Так что в нашем стихотворении после первых наблюдений начинает проявляться особое смысловое поле, которое выстраивается исключительно лингвистическими средствами. Это Поле напряжения внутри различных языковых уровней и между ними: лексическая несочетаемость, но грамматическая связность; эмоциональное распадение связей, но логическое противопоставление элементов текста; синтаксическое единство и вариативность. Таким образом, создается модель, основанная на соединении противоположностей – диалектическая модель напряжения мысли. А это значит, что если «вещественные связи» стихотворения Мандельштама еще можно признать «иллюзорными» (Бухштаб), то «логические связи» и организованность текста не оставляет никаких сомнений. А это значит, что «иллюзия связности» не «создается неизменно», а имеется в стихотворении на самом деле, и наши читательские ощущения не обман.
Но здесь вступает в действие другая закономерность. Логическая организованность в сочетании с диалектическим напряжением мысли рождает движение, мыслительную динамику, т. к. соединение противоположностей предполагает борьбу и выбор. Следовательно, и в самом тексте движение должно присутствовать. Ранее мы отметили, что глаголов, как части речи, в стихотворении нет. Но глагольность существует на уровне морфем: звук – звучать, сорвавшегося – сорваться; немолчного – не молчать, напева – напевать. Все корни глагольные. Причем действия, которые они обозначают, по характеру довольно интенсивные.
И в синтаксических связях этого стихотворения тоже видно явное градационное движение, только обратного характера — оно ослабляет связи:
звук осторожный и глухой (определение согласованное), то есть связь — согласование (совпадение по трем морфологическим признакам — род, число, падеж) – связь очень сильная;
звук плода (определение несогласованное), то есть связь – управление (без предлога), следовательно, управление сильное (И.п + Р.п), однако эта связь слабее, чем согласование;
звук (какой?) срединапева (несогласованное определение), теперь также связь – управление, но с предлогом, то есть еще более слабая.
Таким образом, динамика стихотворения также имеет разнонаправленный характер: с морфемной стороны, интенсивность, а с синтаксической – ослабление. И все это внутри оппозиционной логической пары звук – тишина.
А это значит, что в логике стихотворения есть не только исходное напряжение противоположностей их движение и взаимодействие, но и разрешение этого структурного конфликта. Следовательно, перед нами очевидное свидетельство состоявшегося мыслительного процесса и его результат — логически оформленная мысль.
Возникает удивительная ситуация: дискурс как законченная и высказанная мысль есть, но о чем эта мысль, нам еще только предстоит понять, потому что, действительно, «непосредственно смысловом анализом» (Бухштаб) это показать затруднительно.
Однако и смысловой анализ должен состояться. Содержательная сторона высказывания, как правило, группирует слова вокруг главных смысловых точек. И если смысловые точки уже выделились в процессе логико-синтаксического анализа (звук-тишина), то особенности лексических отношений мы должны эти группы найти.
И здесь вступает уровень фонетики. Во–первых, опоясывающая рифмовка, которая связывает точными окончаниями 1-й и 4-й стихи, 2-й и 3-й. Так появляется кольцо, скрепляющее начало и конец предложения. Внутри кольца мы обнаруживаем две равнозначные по силе и параллельные по характеру структурные связи синтаксического уровня: (? – изменить синтаксический уровень на лексический!!!Или перенести выше.)
-звук (какой?) плода (несогласованное определение, связь – управление беспредложное, сильная;
-напева (какого?) тишины — с теми же характеристиками.
Они соединяют строки еще и попарно. А поскольку рядом со звуком и тишиной находится еще по два согласованных определения:
-звук (какой?) осторожный и глухой,
-глубокой (какой?) тишины (какой?) лесной, —
то внутри опоясывающей кольцевой линией образуются два сильных смысловых полюса. Причем смысловые лексические отношения этих полюсов и в самом деле полярны: звук и тишина — это лексические антонимы.
Во – вторых, сама эта полярность (в подкрепление кольцевой рифме) представлена и как оппозиция противоположностей, и как их возможное взаимодействие, то есть эти лексические антонимы образуют оксюморон — словосочетание звук тишины. При этом важно, что и окружающие их эпитеты (согласованные определения) поддерживают это взаимодействие. Они являют собой однородный по смыслу ряд – звук осторожный и глухой, и тишина глубокая лесная (эпитет лесной, находящийся в этом ряду около тишины и получает контекстуальное значение эпитета, усиливающего тишину, это кроме определения места действия).
Таким образом, проясняется и образно-содержательная система текста. Она, так же, как и структурно-логическая, построена на соединении противоположных начал: (осторожный, глухой, глубокая тишина) и их противопоставлении (осторожный глухой и сорвавшийся; немолчный напев тишины; звук –тишина) в лексике.
А это значит, что смысловой анализ показал нам новую особенность этого текста: не вещественно-логическое, а абстрактно-понятийное содержание открывается в этом стихотворении (дообъяснить). У Мандельштама в этом стихотворении оппозиционный характер звука и тишины уже изначально выражен понятийными (абстрактными) существительными. Заметим, что среди 5-ти существительных этого стихотворения 3 абстрактных (звук, напев, тишина), существительное «плод» имеет обобщенное родовое значение («часть растения, образующееся из его семян»), а существительное «древо» с фонетическим неполногласием в данном контексте приобретает символическое значение. Поэтому смысл и содержание текста, как и принципы его композиции – “соединение противоположностей” — представляют собой категориальную, глобальную идею, как бы уже “очищенную” от конкретных значений структуру.
Парадоксальным образом оно воспроизводит закон фольклорных сказочных композиций, сформулированный В. Проппом в книге «Морфология сказки»: сюжет = композиции и = идее. В.Пропп16, чтобы выяснить структурно–композиционное значение функции, вычленял ее из всего набора конкретных (вещественно-логических) сказочных сюжетов.
Например, абстрактно-понятийные отношения функции Герой − Антагонист (оба существительные абстрактные), выделялась (абстрагировалась) из конкретных пар персонажей: Иван Крестьянский сын, Иванушка-Медвежье ушко, Иванушка-дурачок, Иван-царевич, с одной стороны, и Кащей Бессмертный, Змей Горыныч, Царь в тридесятом государстве – с другой.
Но в фольклоре, несмотря на всю схематичность, сюжет всегда конкретен, а у Мандельштама, как мы уже сказали выше, сюжет стихотворения аккумулируется в абстрактно-понятийном столкновении.
Получается, что Мандельштам в стихотворении создает логико-лингвистическую модель своей мысли и эмоции.
А это значит, что секрет понимания стихов Мандельштама заключается в том, чтобы каждый читатель вернул в эту модель живое жизненное содержание, наполнил ее своим конкретным смыслом, основанным на личном опыте. Это как оживить Мертвую царевну, заключенную в геометрические формы хрустального гроба.
Однако понимание в данном случае будет основываться не на восприятии и узнавании жизненной типичности смысла, описанного в сюжете стихотворения, а на так называемом понимающем знании, т.е. на опыте собственной мыслительной деятельности. Поэтому, чтобы понять мандельштамовскую мысль, нужно самому мыслить. А вот этого опыта (самостоятельных размышлений о мире) у современных школьников явно недостаточно. Здесь-то и кроется причина непонимания мандельштамовских текстов.
Таким образом, выявление смысловых и логических связей стихотворения показало способность Мандельштама выражать свои мысли и чувства через логико-лингвистические модели дискурса. А это в свою очередь означает, что смысл его стихотворения предназначен быть вариативным и открывает широкие возможности для интерпретации.
Поэтому общий смысл этого текста можно прочитать как прямолинейное повествование о событиях и их восприятии: в лесу, где очень тихо, неожиданно падает с дерева плод, и звук его падения, несмотря на глухость, воспринимается как громкий, неожиданный и неуместный.
Это может быть смутное воспоминание-ассоциация о драматических событиях Библейской истории, ибо лексика (“плод древа”, “сорвавшегося ”, “немолчной”), высокая по стилю, сохраняет аромат своего старославянского происхождения.
Его можно понять как трагическое осознание конечности конкретной человеческой жизни («сорвавшийся плод» как итог и смерть) среди всеобщего «немолчного напева» других жизней. Осознание ничтожной малости этой единичной трагедии на фоне «глубокой тишины» вечности, что находит подтверждение в сквозных мотивах ранней лирики Мандельштама.
А можно проинтерпретировать как иллюстрацию, звуковой снимок, остановленное, случайно подслушанное мгновение из мира звуков, который неподвластен человеку, что вполне в духе импрессионистического мироощущения начала ХХ века.
И каждое прочтение будет справедливым. С этой точки зрения, объяснимо закономерной выглядит разноголосица мнений о поэзии Мандельштама, которая была характерна для его современников. Его стихи словно вместилище для различных прочтений.
Категориальность, обобщенность и дискурсивно-моделирующее начало поэтических идей Мандельштама подтверждает и тот биографический факт, что это четверостишье не являлось изначально самостоятельным произведением, а входило 4-й или 5-й строфой в большое стихотворение. Но при подготовке к изданию автор «забрал» его из контекста и издал отдельно как законченный текст (обычная для поэта практика).
Итак, организованность, целостность в стихах Мандельштама, как мы увидели, возникает не на уровне вещественно-смысловых характеристик текста, отвечающих за внешнюю коммуникацию высказывания, а рождается из структурно-логического взаимодействия всех языковых уровней – фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса. Причем выясняется, что взаимодействуют они не в иерархической системе, где главной является лексика, а все остальные языковые явления имеют подчеркнуто второстепенную роль. Напротив, они связываются как равные начала, и у каждого свои задачи в данном текстовом образовании. И чтобы такое равноправие состоялось, нужно снять основную нагрузку именно с образного и лексического ряда, ослабив смысловые связи и жесткие смысловые зависимости (с чем мы и столкнулись в начале анализа стихотворения).
А это значит, что средствами только логико-лингвистического порядка Мандельштаму удается создать и выразить смысл, который, являясь полноценным художественным текстом, не опирается при этом на привычные вещественно-логические и коммуникативные связи.
Дискурсивность открывается здесь, с одной стороны, в своем традиционном философском содержании – логически оформленный итог мыслительного процесса, а с другой стороны, выявляются особенности дискурса в лингвистическом аспекте, который определяется как высказывание, взятое вне своих лингвистических факторов. Особенность состоит в том, что в данном случае как раз логико-лингвистический фактор становится определяющим для восприятия текста, и синтаксис является структурно–логическим выражением содержания текста. Это происходит вследствие сочетания синтаксиса с каждым лингвистическим уровнем (морфемным, морфологическим, фонетическим, лексическим), что развивает и уточняет образно-смысловое содержание стихотворения, поскольку отношения между этими уровнями оказываются либо восполняющими, либо поддерживающими, либо оппозиционными, либо представляют вектор иной направленности.