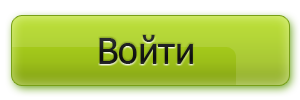Сначала судебный прецедент занимал центральное место в правовой системе царской России. Потом пришли большевики, вследствие чего на долгие годы советской власти прецедентная система права была изгнана из юридической практики и заменена системой социалистической законности, где судебно-следственной практикой правил закон. И как финал этого процесса – известная теория «диктатуры закона», которой увлекались в 80-х гг. во времена гласности и перестройки.
В 90-е гг. в России стали серьезно говорить о разделении властей и необходимости проведения судебной реформы. Судебная система начала медленно выбираться из крепких объятий своих собратьев по власти. Российская Федерация вступила в Совет Европы и признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека, который работал исключительно в координатах системы судебного прецедента. В судебных решениях российских судов появились ссылки не только на законы и Конституцию страны, но и на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод[1] и даже на конкретные дела Европейского Суда по правам человека – «Линчес против Австрии», «Хэндисайд против Соединенного Королевства» и другие.
Во избежание создания одностороннего, искаженного представления о процессе формирования прецедентного («судейского») права в современной России, игнорировать тот факт, что есть не только последовательные сторонники признания прецедента как источника права, но и сомневающиеся, а также его довольно сильные противники.
В качестве примера можно сослаться на мнение Г.Н. Манова, который еще в начале 90-х годов выступал против концепции судейского правотворчества. Он писал, что «у законодателя шире социальный кругозор и, соответственно, есть возможность учета в процессе принятия решений значительно большего числа факторов». Что же касается судей, то они имеют дело лишь с «конкретной, пусть даже типичной, ситуацией». В силу этого логически следовал вывод о том, что судья не сможет столь успешно справиться с нормотворческими функциями, как это сделает законодатель.
В более поздний период аналогичную точку зрения отстаивал В.С. Нерсесянц. По его мнению, судебная практика во всех ее проявлениях «представляет собой, согласно действующей Конституции Российской Федерации 1993 г., не правотворческую, а лишь правоприменительную (и соответствующую правотолковательную) деятельность. Это однозначно следует из конституционной концепции российской правовой государственности и конституционной регламентации принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную». Негативную позицию по рассматриваемому вопросу занимают и другие отечественные авторы. Приводимые ими аргументы не всегда являются убедительными, но оставлять их без внимания было бы неверно. Ибо они проливают свет на различные стороны обсуждаемой проблемы, позволяют взглянуть на нее как бы «со стороны» и тем самым помогают найти наиболее оптимальное, адекватно отражающее современные российские реалии решение.
Наиболее широкое распространение получили следующие точки зрения.
Во-первых, утверждение о том, что признание судебной практики в качестве источника права противоречит конституционно признанному и закрепленному принципу разделения властей.
Конституция[2] России 1993 г., как известно, по примеру Конституции США и ряда других стран закрепляет положение, согласно которому государственная власть в РФ «осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, и «органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны» (ст. 10). Это одно из важнейших конституционных положений современной России, и с ним, естественно, нельзя не считаться. Соответственно нельзя не учитывать и важности аргументов, построенных на основе данного положения. Однако, отдавая им должное, вполне правомерно при этом поставить такой вопрос: не абсолютизируем ли мы принцип разделения властей, считая, в частности, что поле деятельности законодательной власти ограничивается лишь «чисто» правотворческими функциями, а судебной сугубо судебной деятельностью? Ведь в жизни, как показывает опыт других стран, давно и плодотворно использующих принцип разделения властей, такого строгого, жесткого, изначально заданного разделения сферы деятельности и функций различных ветвей власти нет. Оно есть лишь в теории, но не в реалиях.
Во-вторых, тезис о том, что признание судебной практики в качестве источника российского права не согласуется с характерными особенностями романо-германской правовой семьи, к которой «традиционно причисляют Россию» и которая, по мнению некоторых отечественных ученых, «не знает такой формы источника права, как судебный прецедент». Данный аргумент, как и ранее рассмотренный, имеет также весьма условный и относительный характер, хотя и в силу других причин. Далеко не бесспорно мнение о принадлежности правовой системы России к романо-германской правовой семье[3]. Наличие у них некоторых, общих признаков, их взаимное сближение вовсе не означают их некоего тождества или же «вхождения» правовой системы России в романо-германскую правовую семью. В научной литературе в связи с этим происходит подмена понятий «сходство» и «сближение» с понятиями «тождество» и «вхождение».
Уязвимость рассматриваемого аргумента заключается также в том, что он исходит из посылки неприятия прецедента как источника права в романо-германской правовой семье. А это, безусловно, не так. Считается общеизвестным, что прецедент, не будучи признанным в качестве источника романо-германского права формально, выступает в качестве такового реально. Это подтверждается повседневной практикой использования данного источника права судами всех относящихся к романо-германской правовой семье стран. И если отдельные авторы сомневаются в том, что судебная практика выступает источником романо-германского права, или же считают прецедент неким второсортным, «косвенным» источником, то ведущие исследователи этой правовой семьи, включая Рене Давида, полагают на основании изучения и обобщения соответствующего опыта, что все обстоит как раз наоборот. А именно, что применительно к романо-германской правовой семье «судебная практика является в прямом смысле слова источником права».
Исходя из этого, трудно согласиться с утверждением, что признание прецедента в качестве источника российского права противоречило бы соответствующим устоям и традициям романо-германского права, к которому «причисляют» правовую систему нашей страны.
В-третьих, мнение о том, что признание судебной практики источником российского права противоречило бы, с одной стороны, действующей Конституции России и обычному законодательству, а с другой вступало бы в конфликт с правотворческой деятельностью Федерального Собрания. Данный аргумент довольно распространен. Раньше он использовался для критики тех отечественных авторов, которые предлагали придать статус официального источника советского права руководящим разъяснениям Пленума Верховного Суда СССР. Отнесение судебной практики к числу формальных источников права, писал, например, С. Л. Зивс, «противоречит принципу верховенства закона и принципу подзаконности судебной деятельности». Правотворческая деятельность суда, доказывал автор, с неизбежностью умаляет значение закона. Несмотря на то, что в настоящее время данный тезис используется в совершенно иных условиях и на новой основе, изначальная его противоречивая суть остается прежней.
Авторы, придерживающиеся мнения о несовместимости судебного правотворчества с парламентским, как и раньше, исходят из двух взаимосвязанных между собой посылок:
а) из отсутствия какой бы то ни было правовой основы для судебного правотворчества и, соответственно, для признания судебной практики в качестве источника права;
б) из заведомого противопоставления правотворческой деятельности суда и создаваемого им прецедента, с одной стороны, правотворческой деятельности парламента и закона с другой;
Изучение различных аспектов правотворческой деятельности судов в современной России и сравнение ее с соответствующей деятельностью Федерального Собрания Российской Федерации показывают, что ни одно из этих утверждений не выдерживает серьезной критики и не имеет необходимого обоснования. Ибо судебная правотворческая активность осуществляется в строгом соответствии с законом и на основе закона и при этом не только не противоречит законодательной деятельности парламента, а, наоборот, ее дополняет и обогащает.
Говоря о правовой основе правотворческой деятельности суда и создаваемого им прецедента, следует обратить внимание прежде всего на такие «составляющие», как:
а) конституционные положения, из которых логически следует, что место и функции судебной власти не могут теперь ограничиваться «лишь компетенцией вершить правосудие». Ее функции с неизбежностью должны распространяться и на правотворчество;
б) конституционные положения, касающиеся полномочий Конституционного Суда на разрешение дел о соответствии Конституции РФ законов и иных нормативно-правовых актов, а также не вступивших в силу международных договоров России (ст. 125). Согласно Конституции России, как известно, акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу, а международные договоры РФ «не подлежат введению в действие и применению»;
в) законы, закрепляющие место и роль высших судебных инстанций в государственном механизме России, и юридический характер принимаемых ими решений.
Весьма важно при этом отметить также императивный характер последних, который свидетельствует не только об их значимости, но и об их непременной обязательности.
Закрепляя юридическую силу решений Конституционного Суда, Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», в частности, устанавливает, что:
а) решения Конституционного Суда окончательны, не подлежат обжалованию и вступают в силу немедленно после их провозглашения;
б) они действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами;
в) юридическая сила постановления Конституционного Суда о признании актов неконституционными «не может быть преодолена повторным принятием этого же акта»;
г) решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, «не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях»;
д) «неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению» решения Конституционного Суда России влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом (ст. 79, 81).
Данные и ряд других им подобных положений, содержащихся в конституционных и обычных федеральных законах, касающихся судебной системы России, составляют правовую основу не только правоприменительной, но и всей иной деятельности судов, включая правотворческую.
Обобщая и систематизируя накопившийся за последние годы в России и других бывших советских республиках, ныне странах СНГ, опыт судейского правотворчества и формирования судебных прецедентов, некоторые авторы предлагают разработать даже свою особую доктрину «судебного прецедента и прецедентного права». Ибо существующие теории судебного прецедента, равно, как и «лаконичные определения судебного правотворчества, по мнению исследователей, не исчерпывают сложной и новой для стран СНГ проблемы судебного прецедента и прецедентного права».
В совокупности с другими аналогичными предложениями и даже своеобразными призывами типа «пора определиться с оценкой юридической силы актов судебных органов» это свидетельствует, с одной стороны, о широте признания судейского правотворчества в нашей стране и других бывших советских республиках и соцстранах, а с другой об осознании в новых условиях важности и актуальности проблемы.
Не вдаваясь в обсуждение вопроса о необходимости ее решения, а главное, готовности к разработке доктрины судебного прецедента и самого прецедентного права применительно к России и другим странам СНГ, необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в любом случае требуются дальнейшая систематизация и «инвентаризация» накопившегося о судейском правотворчестве материала и акцентирование внимания на наиболее важных в теоретическом и практическом плане вопросах. Их много, и они весьма разнообразны. Применительно, например, к правотворческой деятельности Конституционного Суда России можно указать на те, которые касаются прежде всего форм, или видов, его правотворческой деятельности. При ответе на вопрос, выполняет ли Конституционный Суд правотворческие функции при осуществлении всех предоставленных ему законом полномочий или же только некоторых из них, более убедительным представляется мнение, согласно которому участие Конституционного Суда в правотворчестве «осуществляется преимущественно посредством разрешения споров о праве и официального толкования норм Конституции Российской Федерации, оформленных в виде общеобязательных решений».
Формы или виды правотворческой деятельности Конституционного Суда в этом смысле имеют довольно ограниченный характер. Они не распространяются на все «иные полномочия», предоставленные ему Конституцией РФ, Федеративным договором и федеральными конституционными законами (ст. 3 Закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»)[4].
Соответственно в плане обладания юридической силой, а точнее правовым характером следует говорить не обо всех актах, принимаемых Конституционным Судом, а преимущественно о его «итоговых решениях», именуемых постановлениями.
Последние, согласно Закону «О Конституционном Суде Российской Федерации», принимаются по вопросам, связанным:
а) с разрешением дел о соответствии Конституции РФ законов и других правовых актов, указанных в законе;
б) с разрешением споров о разграничении компетенции между федеральными органами государственной власти, между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации, между органами государственной власти РФ;
в) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов о проверке конституционности применяемых ими в конкретном деле или подлежащих применению законов;
г) с толкованием Конституции Российской Федерации (ст. 3, п.п. 1-4 ст. 71).
Что же касается других решений Конституционного Суда России, именуемых заключениями и определениями, то они, будучи юридическими актами, не являются нормативно-правовыми.
Из этого следует, что если постановления Конституционного Суда фактически выступают в качестве источников права, то его заключения и определения явно таковыми не являются. Принципиальная разница между ними состоит в том, что первые- продукт судейского правотворчества, а вторые выступают в качестве одного из возможных источников, материалом для такого правотворчества.
Нормативный характер постановлений Конституционного Суда состоит в том, что они, во-первых, имеют общеобязательный характер, будучи рассчитанными на неопределенный круг лиц. А во-вторых, что они с неизбежностью предполагают многократность применения.
Правотворческая деятельность Конституционного Суда России имеет место не только в случаях разрешения дел о соответствии различных актов Конституции, но и в большинстве случаев, предусмотренных законом, когда требуется принятие постановления Конституционного Суда. В особенности это касается актов толкования Конституции Российской Федерации, которые имеют не только нормативный характер, но и приоритетное значение перед другими видами ее толкования.
Такого рода постановления Конституционного Суда «не являются правоприменительными, индивидуальными актами. Актами применения Конституции. Им присущи нормативно-интерпритационный характер, обобщенность и обязательность».
Весьма важно при этом отметить, во избежание недопонимания, что нормы судебного правотворчества имеют довольно специфический характер, не всегда укладывающийся в традиционно сложившиеся в отечественной юридической науке представление о них. Речь при этом идет, в частности, о так называемых «индивидуальных правовых нормах», которые создаются судами и широко исследуются в зарубежной литературе. Имеется в виду также тот «нормативный симбиоз», который складывается в результате органического сочетания индивидуальных норм с общими нормами.
Когда судебная ветвь власти, пишет по этому поводу израильский профессор А. Барак, создает «индивидуальную правовую норму, то есть норму, обязывающую только стороны в деле, она участвует не в судебном правотворчестве, а просто в отправлении правосудия»[5]. Судебное же правотворчество, будучи неразрывно связанным с процессом создания индивидуальных правовых норм, самым непосредственным образом ассоциируется с формированием «обязывающего прецедента». Специфичность последнего заключается в том, что содержащееся в судебном решении правило обязывает не только стороны в конфликте, но и все общество. «Творчество суда по отправлению правосудия приобретает тем самым общее действие».
Осознавая и стремясь подчеркнуть особенность судебного правотворчества и порождаемых им норм, некоторые отечественные авторы вполне оправданно, именуют их «своеобразными» нормами, или «квазинормами». Тем самым, как представляется, в определенной мере снимаются тот искусственный пафос и острота спора, который время от времени возникает по поводу того, создает ли Конституционный Суд России новые нормы права, или же он только применяет, толкует и уточняет уже существующие нормы. Является ли суд в этом смысле «правоприменителем», или же он одновременно выступает и в роли «судейского законодателя».
Исходя из особенностей судейского и парламентского правотворчества и порождаемых первым обычных «классических» норм, вполне логично было бы предположить, что в современных российских условиях, на переходном этапе специфичность судейского правотворчества и своеобразие исходящих от него норм с неизбежностью обусловливают также возникновение новых соответствующих им форм. Речь при этом идет, в частности, о такой форме, или источнике права, как «правовая позиция Конституционного Суда». В научной литературе «правовая позиция» представляется как «обобщенное» представление Конституционного Суда по конкретным конституционно-правовым проблемам.
Характерными особенностями «правовой позиции Конституционного Суда» как источника российского права являются следующие:
а) ее общий и обязательный характер;
б) обладание юридической силой, «приравниваемой к юридической силе самой Конституции;
в) наличие у нее «характера конституционно-правовой нормы, хотя таковой она никогда не становится»;
г) схожесть «в судебной и иной правоприменительной практике» с «характером прецедента», хотя «таковой по своей природе не является»;
д) ее самостоятельность как источника конституционного и иных отраслей права среди других источников права.
Признание «правовой позиции Конституционного Суда» в качестве самостоятельного источника российского права в переходный период формирования рыночных отношений, повышения роли судебной власти, а вместе с тем и все более отчетливо выделяющегося процесса формирования судейского, прецедентного права в России, с одной стороны, означало бы давно назревшее признание судебного правотворчества наряду с парламентским правотворчеством в России, а с другой ознаменовало бы собой нахождение некоего «компромисса» в явно затянувшемся и не всегда продуктивном споре между сторонниками существования прецедента как источника права в России и их противниками.
Анализ российской правовой системы позволяет сделать вывод о том, что судебная практика уже является источником права. Так, к числу судебных актов, содержащих нормативные предписания, могут быть отнесены:
1) решения Конституционного Суда Российской Федерации;
2) нормативное толкование Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
3) решения судов общей юрисдикции, отменяющие нормативные акты (законы и др.) субъектов Федерации в случае их противоречия федеральному законодательству;
4) решения судов по аналогии закона и права, а также на основе норм права, содержащих некоторые оценочные понятия;
5) решения Европейского суда по правам человека.
Если с точки зрения дихотомии «прецедент — не прецедент» мы посмотрим на нашу судебную систему, то окажется, что она находится где-то посередине, причем довольно давно. С того момента, как наши высшие суды получили право принимать постановления пленумов о толковании законов, они перешли от классического континентального подхода, согласно которому судебный акт влияет только на то правоотношение, которое подвергалось анализу суда, к более широкому влиянию на социальные отношения. Естественно, это решение было нетипичным для континентальной правовой системы, и когда нам приходится беседовать с нашими коллегами в Западной Европе, они всегда с удивлением узнают, что наши пленумы могут принимать обязательные постановления по толкованию законов. Для многих из них это означает, что мы косвенно принимаем англо-саксонский подход к формулированию правовых позиций. Более того, нормативность постановлений пленумов высших судов даже более высока, чем прецедентов. Ведь прецеденты работают только в судах, а постановления пленумов — далеко за их пределами. Еще дальше в сторону прецедента российская судебная система пошла с созданием Конституционного суда РФ, предоставив ему право давать общеобязательное толкование Конституции РФ и признавать неконституционными нормы законов. Но Конституционный суд — единственный в своем роде, и дела, которые в нем рассматриваются, — штучные. Что же касается остальных судов, то они образуют две системы, через которые движется огромное количество дел. Конфликтность в нашем обществе весьма высока, рутина захватывает все большее и большее пространство. Где уж тут до создания прецедентов! Между тем, в англо-саксонской правовой системе нагрузка судей невысока, что позволяет им готовить огромные по объему судебные акты, в которых и оттачиваются правовые позиции. После того, как признана нормативность постановлений пленумов высших судов, остается один шаг до перехода к системе прецедентного права. И этот шаг, на мой взгляд, совершается тогда, когда мы приходим к идее отбора судебных актов, которые будут пересматриваться высшими судами. Вот здесь наступает коренной перелом, который позволяет сказать, что наша система трансформировалась в систему прецедентного права. В чем смысл отбора дел и национальных фильтров, которые устанавливаются для того, чтобы высшие суды могли решать только наиболее значимые дела? Конечно, первоначально, как и всегда в судебной системе, установление фильтров играло роль просто средства облегчения работы судов. Высший суд перегружен, туда поступает много мелких дел, и он решает, что надо отбирать наиболее значимые дела. Но затем это решение повлекло за собой довольно серьезные правовые и организационные последствия. Какой смысл в том, чтобы отбирать дела? Они отбираются для того, чтобы в наиболее важных для общества случаях сформулировать правовые позиции, рассчитанные не только на эти, но и на другие аналогичные им дела. Иначе нарушается принцип правовой определенности, и возникают серьезные проблемы с правом на судебную защиту. Цель фильтра состоит в формировании правовых позиций, которые будут влиять на все остальные правоотношения. Прежде всего, конечно, на те, которые попадут в орбиту судебного разбирательства. А в перспективе — и на те, которые, возможно, никогда туда не попадут, особенно в сфере частного права, поскольку в этом смысле частное право более пластично. Стороны просто не будут, заключать такой контракт или не будут вступать в такое гражданское правоотношение, в отношении которого определена невыгодная для них правовая позиция, в отличие от публичного права, где вступление в те или иные правоотношения часто жестко предопределено, где люди будут вынуждены продолжать вступать в эти отношения, потому что у них нет выбора. Как только устанавливается национальный, на уровне высшего суда, фильтр отбора для судебных решений, вне зависимости от того, какими целями он обусловлен, сразу же авторитетность правовых позиций суда возрастает, и они начинают влиять на будущие судебные решения, а дальше и на те отношения, которые, возможно, никогда не будут пересмотрены в суде. Причем чем выше авторитет правовых позиций суда, тем сильнее его влияние на социальные отношения. Не следует забывать и о нацеленности высшего суда и его судей на создание прецедентов, поскольку одних организационных мероприятий недостаточно. Существование национального фильтра для отбора судебных решений требует определенной организационной настройки деятельности высшего суда. Вся его деятельность должна быть нацелена на формирование единых и непротиворечивых правовых позиций или, как сказано в АПК РФ[6], на поддержание единства судебной практики. Это не просто лозунг, а жизненная необходимость. Ведь если по одинаковым делам высказываются разные правовые позиции, то это роняет авторитет высшего суда, снижает значимость его актов, нарушает принцип правовой определенности.
Но если в высшем суде отсутствует единый орган, который вырабатывает правовые позиции, разнобой в судебной практике неизбежен. Судьи тоже люди, им свойственно ошибаться, а статус независимости судьи только повышает этот риск, позволяя не оглядываться на мнение коллег. Поэтому в организационном плане высший суд, применяя национальный фильтр, должен обеспечивать независимый отбор дел, с одной стороны, и разрешение уже отобранных дел в рамках единого органа, состоящего из судей, сената, президиума, палаты и т.п., с другой. В этой связи хотелось бы обратить внимание на существование в рамках Конституционного Суда двух органов (палат), вырабатывающих правовые позиции, что, правда, отчасти компенсируется возможностью слушания дел всем составом суда (пленумом).
Если мы посмотрим на нашу судебную систему с точки зрения фильтра и его роли в формировании прецедентов, то мы обнаружим, что у нас один суд – Верховный Суд, фактически, работает по прежней континентальной модели, с добавлением постановлений Пленумов, которые сами по себе являются отступлением от континентальной модели. Суд соединяет все инстанции: первую, кассационную, надзорную.
Причем надзор носит многоступенчатый характер. Но главное в том, что этот
суд, как мне кажется, не преследует цель создания прецедентов, хотя его
организационная структура позволяет их формировать. И есть два других высших
суда – Конституционный и Высший Арбитражный, которые установили фильтры, выбирают
наиболее значимые дела, и это волей-неволей толкает их к тому, чтобы
формировать прецеденты. Данный процесс происходит сам собой, независимо от их
желания. Тут нельзя кого-то упрекнуть в том, что они хотят сделать прецедент
источником права. Просто суды выбрали определенную модель работы, и такая
модель с неизбежностью влечет за собой прецедентность их правовых позиций.
Таким образом, считаю
правильным сделать вывод о том, что правовой прецедент в нашей стране не
является «инородным телом». Ведь как мы видим из истории, некогда, а именно в
Российской империи, да и на Руси, он был полноправным источником права, но с
приходом советской власти его роль и значение были подавлены. В наши дни, он снова
функционирует, правда, неформально, то есть, он есть, но источником права не
признан.
[1] «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
[2] Конституция Российской федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 37-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 14.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 дек; СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
[3] Давид Р., Жоффре-Спинози К.; Пер.: Туманов В.А., Указ. соч. – С. 55.
[4] Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447 ; СЗ РФ. – 2018. – № 31. – Ст. 4811.
[5] Судейское усмотрение. Перевод с английского / Барак А.; Науч. ред.: Кикоть В.А., Страшун Б.А.; Вступ. ст.: Баглай М.В. – М. : Норма, 1999. – С. 376.
[6] Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 ; СЗ РФ. – 2018. – № 53 (ч. 1). – Ст. 8411.